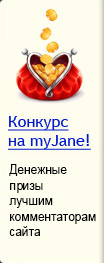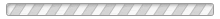Статьи » Истории из жизни
 Елена Николаевна заглянула на кухню и посмотрела на него своими кроличьими глазами. Подошла и тяжело опустилась на стул, сложив маленькие сухие ручки на коленях. Эти руки были похожи на клещи или щупальца – маленькие, но очень цепкие, с острыми ногтями. Он смотрел на нее молча, не зная, о чем говорить. Казалось, он должен извиниться за что-то, может быть, покаяться, что сломал ее дочери жизнь, хотя никогда ничего такого не делал.
Елена Николаевна заглянула на кухню и посмотрела на него своими кроличьими глазами. Подошла и тяжело опустилась на стул, сложив маленькие сухие ручки на коленях. Эти руки были похожи на клещи или щупальца – маленькие, но очень цепкие, с острыми ногтями. Он смотрел на нее молча, не зная, о чем говорить. Казалось, он должен извиниться за что-то, может быть, покаяться, что сломал ее дочери жизнь, хотя никогда ничего такого не делал.
- Я поеду домой, Николай.
- Может быть, чаю?
- Нет, спасибо. Не хочу Вам мешать.
Он принялся уговаривать ее, но все было бесполезно, и он снова замолчал. Теща встала и тяжело направилась в коридор.
- Подождите, - спохватился он. – Я вызову Вам такси.
- Я дойду пешком.
- Ну зачем же… - его вдруг охватила непонятная суета. Он схватил зачем-то со столика ключи от машины.
- Вы выпили, Николай, Вам нельзя садиться за руль.
Да, действительно. Он никогда не позволял себе ездить даже после бутылки пива. Что это на него нашло? Он потерянно стоял посреди коридора, пока за тещей не закрылась дверь, снова чувствуя себя виноватым, представляя, как она, сгорбившись, бредет по улице, и из ее глаз катятся маленькие слезы. Почему-то думать об этом было неприятно.
Он вдруг поймал свое отражение в зеркале. Обрюзгшее лицо, брыли над шеей, выпирающее из-под ремня брюшко. Немолодой человек с усталыми глазами. Он не спал всю ночь накануне похорон.
Вернувшись в кухню, включил чайник, но потом вдруг подошел к подоконнику и взял непочатую бутылку водки. Установив ее на столе, заглянул в холодильник, достал кусок колбасы, миску с салатом, поставил на стол большую и тяжелую хрустальную рюмку с толстым дном. Огляделся беспомощно – в квартире не было ни одной пепельницы. Никогда! С самого первого дня, как они вселились. Он поставил вместо пепельницы пиалу и сел за стол, чтобы теперь помянуть жену так, как хотелось ему – в одиночестве, наедине с ней и их общей, двадцатилетней почти семейной жизнью.
Эта пиалка вместо пепельницы, водка, не перелитая в графин, сам сигаретный дым в квартире – это было прощание с этими двадцатью годами, с постоянным чувством вины, переход в другую эру. Для него это действительно была целая эра – долгие-долгие годы, без начала и без конца, без краев…
Он налил в рюмку и выпил, не поморщившись. Его преследовало лицо жены – усталое и укоризненное. Он припомнил, какое чувство неловкости постоянно испытывал, возвращаясь домой – последний лестничный пролет преодолевал тяжело и медленно, как старик, боясь поворачивать в двери ключ – за этой дверью было укоризненное и обиженное лицо. Она всегда была на него обижена, но не говорила ни слова, и он жил под гнетом этой обиды днями, месяцами, годами.
Она была постоянно на ногах, вставала в шестом часу утра – и выбивала ковры! Он вскакивал с постели, сам не зная, зачем – и страдал потом над чашкой кофе, пока она суетливо вытирала пыль, мела пол. Боже мой, почему нельзя было спокойно позавтракать… Он выдумывал себе несуществующую работу, которую якобы не успел сделать в конторе, и закрывался в своей комнате. Там он читал или просто сидел на диване и смотрел в окно.
Ни пикников, ни гостей, ни театра, ни даже кино – никогда! Ни одной яркой вещи. Он давал жене деньги и просил купить что-нибудь себе, а она говорила, что ее одежда еще не сносилась! Заштопанные юбки, капроновые колготки, на которых она пыталась ликвидировать стрелки. Однажды он увидел, как она поздно вечером сидит на кухне и вощеной ниткой пришивает подошву к туфле – добротной, устойчивой туфле, купленной лет восемь назад. Он пришел в бешенство, но промолчал, сжал зубы, ушел спать и долго лежал, размышляя. Говорить что-либо было бесполезно.
…Он встал, с грохотом, показавшимся особенно громким в пустой молчаливой квартире, отодвинул стул и быстро прошел в комнату жены. Распахнул шкаф и вывалил на пол все вещи – невыразительные серые вещи, тут и там зашитые, отутюженные, пахнущие нафталином. Он с остервенением запихал их в попавшийся под руку мешок и отнес к мусоропроводу. Потом – пальто, потом – связки обуви. Почему-то его жена всегда связывала ботинки за шнурки, вероятно, чтобы не растерялись. Затолкав в мусоропровод вещи, он пошевелил туда-сюда грязной крышкой и услышал, как с тихим шорохом они поползли вниз, в мусор, который завтра же заберут. Тогда он вернулся в квартиру, снова наполнил рюмку и выпил залпом, растирая себе грудь и глядя в стену.
Он развелся бы, несмотря на то, что тогда лицо Натальи преследовало бы его до смертного часа, если бы не рак, который обрушился на нее. И оказалось, что ее смертный час наступит гораздо раньше, чем его…
Из-за дыма очертания предметов на кухне потеряли четкость, а может быть, алкоголь добрался до его усталого мозга. Ему очень хотелось бы сейчас не испытывать ничего, кроме скорби, но не получалось. Воспоминания навалились, и – удивительно - в них не присутствовало чувства вины перед покойной женой. Он рассматривал свою семейную жизнь через призму времени, рассматривал внимательно и спокойно, прощаясь с ней, прощаясь с женой.
Рак выявили на четвертой стадии, и это не оставляло никакой надежды. Это был вопрос времени, и времени очень недолгого.
- От силы полгода, - сказал усталый тучный врач, потирая красную переносицу. - Метастазы в печени, легких… Нечего резать.
А началось все раньше, когда у нее появились боли в желудке, она стала мгновенно утомляться. Он умолял ее сходить к врачу, он настаивал, но она только смотрела на него все так же молча и качала головой с печальной усмешкой. Он прекрасно знал, что это означает, но однажды все-таки не выдержал и пристал к ней с вопросом «почему». В конце концов она обвела руками пространство вокруг:
- А это все как же? Кто будет тебе готовить и убирать?
И он, чувствуя бесполезность своих усилий, принялся все же объяснять, что прекрасно справится со всем сам – и постирает, и погладит, и приготовит… Она так и не пошла к врачу, и угасала медленно, пока ей не пришлось признаться ему, что боли стали невыносимыми. Тогда он отвез ее в больницу.
От хосписа он отказался. Невозможно было оставить ее умирать не в квартире, которая составляла весь ее мир. Пока она была в сознании, он не раз и не два заставал ее, пытающейся встать и приняться за привычную работу, в которой она видела смысл своего существования.
Он укладывал ее обратно в постель, уговаривал и просил, и она засыпала в конце концов после укола. Бесцветные тонкие губы совсем слились с лицом, которое казалось очень маленьким на белых подушках. И все это время никуда не пропадал этот ее взгляд – укоряющий, молящий… Вовсе не из-за тяжелого духа, поселившегося в комнате, не от грязного белья, которое он менял под ней дважды в день – от этого взгляда хотелось бежать, и он сдерживал себя, чтобы не уйти сразу после того, как помог жене во всем, в чем следовало, накормил, сделал уколы.
Она очень долго была в сознании. Он не был сведущ в медицине, но полагал, что метастазы, разъедающие изнутри ее тело, все никак не могли добраться до мозга. Когда она открывала глаза, они были ясными, ничуть не затуманенными болезнью. Этот обвиняющий взгляд. Господи!
- Господи! – шептал он, укладываясь в постель поздно вечером, измотанный до предела, слушая тишину квартиры. – Господи! Избавь и меня, и ее от этого!
Он никогда не мог объяснить, от чего именно – даже себе не мог. От этой безрадостности существования, от этих двух загнанных в угол жизней, от страданий, которые грызли его жену.
…Он сидел за столом, тяжело на него навалившись. Лицо его еще больше постарело, даже кожа стала серее. Словно он еще раз прожил все эти годы. Девятнадцать лет. С чувством вины. В чем? В чем я был виноват перед тобой?..
Он никогда не обидел ее ни единым словом. Он исправно ездил к теще, которая его не любила, он не был жмотом, не требовал денежных отчетов. Почему, Наталья?.. Он почувствовал, что голову его словно сдавило обручем. Девятнадцать лет, Господи. Девятнадцать лет он был виноват, хотя на самом деле по-настоящему виноват был только последние полтора года. Почему же?
Он мучился этими мыслями все эти годы – каждый день и каждый час. Особенно, если что-то делал для себя – перекусывал в кафе, выпивал вечером с сослуживцами кружку пива, даже когда садился за руль своего автомобиля и включал музыку и наслаждался тихим урчанием мотора. Ему было стыдно, что он оставил ее одну там – среди пара от белья и жужжания пылесоса, а сам сейчас поедет жить – работать, есть, общаться с людьми. Он стыдился нести домой купленные вещи, даже банальные джинсы…
…Потом она впала в беспамятство. Металась по подушкам, стонала от боли, ненадолго затихала после укола. Но глаза – все так же жили на сером лице, и все тот же в них был укор, молчаливое обвинение, и он не мог смотреть в эти глаза…
Он быстрым шагом прошел в прихожую, надел ботинки, сдернул с крючка куртку, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Машина смотрела на него выжидательно, но он не подошел к ней. Обогнул двор, вышел на тихую зеленую улочку. Город был напоен ароматами приближающегося лета, звуками, шорохами, детским смехом.
Почему ты не родила мне ребенка, Наташа? И он запрокидывал к небу лицо, и слезы стекали по щекам, покрытым уже морщинами. Почему ты не родила мне сына или дочь, которые могли бы быть сейчас взрослыми? Ведь я просил тебя, Наташа…
Голубое-голубое, чистое, покоем дышащее небо простиралось над его седеющей головой, успокаивало и отвечало на вопросы. Потому что ее мать ненавидела ее, Господи! Он припомнил все взгляды, которые теща бросала на нее, все ее разговоры о неудавшейся из-за ребенка личной жизни. Ты ни в чем не виновата, Наташа. Только в том, что не смогла сопротивляться. Ты смутно чувствовала несправедливость и винила меня… Ты всю жизнь была уверена, что дети – зло, а сама ты не годна ни на что, кроме мытья полов – только так тебя будут хвалить. Бедная, бедная… И я не смог помочь тебе. Да и смог ли бы кто-нибудь?
Ты прожила так всю жизнь – в страхе. Как это ужасно – так жить! И я прожил с тобой эти долгие годы, в той же клетке, что и ты.
Он шел быстро и начал уже задыхаться, но не сбавил шаг и не остановился. Вот двор с разломанной, обезображенной детской площадкой и разбитым асфальтом, вот хлопающая дверь подъезда в обрывках старых объявлений. Он поднялся по темной грязной лестнице и остановился перед дверью. Достал ключ и тихонько повернул его в замке.
И тут же споткнулся о брошенный детский башмачок. Из кухни выглянул лохматый парень лет шестнадцати.
- Здорово, дядя Коль… - и крепко пожал ему руку молодой мальчишеской рукой.
- Здорово, Серега.
- Дядь Коль…
- Спасибо, Серега, все в порядке. Мама дома?
- Мать! – гаркнул Серега вглубь квартиры.
Она вышла, растрепанная, полная, с усталыми глазами, под которыми залегли тени. Подошла, потерлась носом, прижалась к шее теплыми губами, постояла так.
- Бедный мой.
Он молча стоял в прихожей, ощущая тепло этого дома с разбросанными детскими вещами. Простучали по полу коленки. Серега поймал малыша и протянул ему, улыбаясь.
И, принимая на руки маленького теплого человечка, отбиваясь от рассказов Сереги «дядь Коль, ну блин…» и чувствуя ее молчаливое сочувствие, он понял, что за чувство поселилось в нем с самого утра.
- Не рви папе волосы…
- Дядь Коль, ну блин…
- Пошли ужинать, - сказал он.
И он, и Наташа были теперь свободны.
Спасибо тебе, Господи…
Свободны. Часть 2

- Я поеду домой, Николай.
- Может быть, чаю?
- Нет, спасибо. Не хочу Вам мешать.
Он принялся уговаривать ее, но все было бесполезно, и он снова замолчал. Теща встала и тяжело направилась в коридор.
- Подождите, - спохватился он. – Я вызову Вам такси.
- Я дойду пешком.
- Ну зачем же… - его вдруг охватила непонятная суета. Он схватил зачем-то со столика ключи от машины.
- Вы выпили, Николай, Вам нельзя садиться за руль.
Да, действительно. Он никогда не позволял себе ездить даже после бутылки пива. Что это на него нашло? Он потерянно стоял посреди коридора, пока за тещей не закрылась дверь, снова чувствуя себя виноватым, представляя, как она, сгорбившись, бредет по улице, и из ее глаз катятся маленькие слезы. Почему-то думать об этом было неприятно.
Он вдруг поймал свое отражение в зеркале. Обрюзгшее лицо, брыли над шеей, выпирающее из-под ремня брюшко. Немолодой человек с усталыми глазами. Он не спал всю ночь накануне похорон.
Вернувшись в кухню, включил чайник, но потом вдруг подошел к подоконнику и взял непочатую бутылку водки. Установив ее на столе, заглянул в холодильник, достал кусок колбасы, миску с салатом, поставил на стол большую и тяжелую хрустальную рюмку с толстым дном. Огляделся беспомощно – в квартире не было ни одной пепельницы. Никогда! С самого первого дня, как они вселились. Он поставил вместо пепельницы пиалу и сел за стол, чтобы теперь помянуть жену так, как хотелось ему – в одиночестве, наедине с ней и их общей, двадцатилетней почти семейной жизнью.
Эта пиалка вместо пепельницы, водка, не перелитая в графин, сам сигаретный дым в квартире – это было прощание с этими двадцатью годами, с постоянным чувством вины, переход в другую эру. Для него это действительно была целая эра – долгие-долгие годы, без начала и без конца, без краев…
Он налил в рюмку и выпил, не поморщившись. Его преследовало лицо жены – усталое и укоризненное. Он припомнил, какое чувство неловкости постоянно испытывал, возвращаясь домой – последний лестничный пролет преодолевал тяжело и медленно, как старик, боясь поворачивать в двери ключ – за этой дверью было укоризненное и обиженное лицо. Она всегда была на него обижена, но не говорила ни слова, и он жил под гнетом этой обиды днями, месяцами, годами.
Она была постоянно на ногах, вставала в шестом часу утра – и выбивала ковры! Он вскакивал с постели, сам не зная, зачем – и страдал потом над чашкой кофе, пока она суетливо вытирала пыль, мела пол. Боже мой, почему нельзя было спокойно позавтракать… Он выдумывал себе несуществующую работу, которую якобы не успел сделать в конторе, и закрывался в своей комнате. Там он читал или просто сидел на диване и смотрел в окно.
Ни пикников, ни гостей, ни театра, ни даже кино – никогда! Ни одной яркой вещи. Он давал жене деньги и просил купить что-нибудь себе, а она говорила, что ее одежда еще не сносилась! Заштопанные юбки, капроновые колготки, на которых она пыталась ликвидировать стрелки. Однажды он увидел, как она поздно вечером сидит на кухне и вощеной ниткой пришивает подошву к туфле – добротной, устойчивой туфле, купленной лет восемь назад. Он пришел в бешенство, но промолчал, сжал зубы, ушел спать и долго лежал, размышляя. Говорить что-либо было бесполезно.
…Он встал, с грохотом, показавшимся особенно громким в пустой молчаливой квартире, отодвинул стул и быстро прошел в комнату жены. Распахнул шкаф и вывалил на пол все вещи – невыразительные серые вещи, тут и там зашитые, отутюженные, пахнущие нафталином. Он с остервенением запихал их в попавшийся под руку мешок и отнес к мусоропроводу. Потом – пальто, потом – связки обуви. Почему-то его жена всегда связывала ботинки за шнурки, вероятно, чтобы не растерялись. Затолкав в мусоропровод вещи, он пошевелил туда-сюда грязной крышкой и услышал, как с тихим шорохом они поползли вниз, в мусор, который завтра же заберут. Тогда он вернулся в квартиру, снова наполнил рюмку и выпил залпом, растирая себе грудь и глядя в стену.
Он развелся бы, несмотря на то, что тогда лицо Натальи преследовало бы его до смертного часа, если бы не рак, который обрушился на нее. И оказалось, что ее смертный час наступит гораздо раньше, чем его…
Из-за дыма очертания предметов на кухне потеряли четкость, а может быть, алкоголь добрался до его усталого мозга. Ему очень хотелось бы сейчас не испытывать ничего, кроме скорби, но не получалось. Воспоминания навалились, и – удивительно - в них не присутствовало чувства вины перед покойной женой. Он рассматривал свою семейную жизнь через призму времени, рассматривал внимательно и спокойно, прощаясь с ней, прощаясь с женой.
Рак выявили на четвертой стадии, и это не оставляло никакой надежды. Это был вопрос времени, и времени очень недолгого.
- От силы полгода, - сказал усталый тучный врач, потирая красную переносицу. - Метастазы в печени, легких… Нечего резать.
А началось все раньше, когда у нее появились боли в желудке, она стала мгновенно утомляться. Он умолял ее сходить к врачу, он настаивал, но она только смотрела на него все так же молча и качала головой с печальной усмешкой. Он прекрасно знал, что это означает, но однажды все-таки не выдержал и пристал к ней с вопросом «почему». В конце концов она обвела руками пространство вокруг:
- А это все как же? Кто будет тебе готовить и убирать?
И он, чувствуя бесполезность своих усилий, принялся все же объяснять, что прекрасно справится со всем сам – и постирает, и погладит, и приготовит… Она так и не пошла к врачу, и угасала медленно, пока ей не пришлось признаться ему, что боли стали невыносимыми. Тогда он отвез ее в больницу.
От хосписа он отказался. Невозможно было оставить ее умирать не в квартире, которая составляла весь ее мир. Пока она была в сознании, он не раз и не два заставал ее, пытающейся встать и приняться за привычную работу, в которой она видела смысл своего существования.
Он укладывал ее обратно в постель, уговаривал и просил, и она засыпала в конце концов после укола. Бесцветные тонкие губы совсем слились с лицом, которое казалось очень маленьким на белых подушках. И все это время никуда не пропадал этот ее взгляд – укоряющий, молящий… Вовсе не из-за тяжелого духа, поселившегося в комнате, не от грязного белья, которое он менял под ней дважды в день – от этого взгляда хотелось бежать, и он сдерживал себя, чтобы не уйти сразу после того, как помог жене во всем, в чем следовало, накормил, сделал уколы.
Она очень долго была в сознании. Он не был сведущ в медицине, но полагал, что метастазы, разъедающие изнутри ее тело, все никак не могли добраться до мозга. Когда она открывала глаза, они были ясными, ничуть не затуманенными болезнью. Этот обвиняющий взгляд. Господи!
- Господи! – шептал он, укладываясь в постель поздно вечером, измотанный до предела, слушая тишину квартиры. – Господи! Избавь и меня, и ее от этого!
Он никогда не мог объяснить, от чего именно – даже себе не мог. От этой безрадостности существования, от этих двух загнанных в угол жизней, от страданий, которые грызли его жену.
…Он сидел за столом, тяжело на него навалившись. Лицо его еще больше постарело, даже кожа стала серее. Словно он еще раз прожил все эти годы. Девятнадцать лет. С чувством вины. В чем? В чем я был виноват перед тобой?..
Он никогда не обидел ее ни единым словом. Он исправно ездил к теще, которая его не любила, он не был жмотом, не требовал денежных отчетов. Почему, Наталья?.. Он почувствовал, что голову его словно сдавило обручем. Девятнадцать лет, Господи. Девятнадцать лет он был виноват, хотя на самом деле по-настоящему виноват был только последние полтора года. Почему же?
Он мучился этими мыслями все эти годы – каждый день и каждый час. Особенно, если что-то делал для себя – перекусывал в кафе, выпивал вечером с сослуживцами кружку пива, даже когда садился за руль своего автомобиля и включал музыку и наслаждался тихим урчанием мотора. Ему было стыдно, что он оставил ее одну там – среди пара от белья и жужжания пылесоса, а сам сейчас поедет жить – работать, есть, общаться с людьми. Он стыдился нести домой купленные вещи, даже банальные джинсы…
…Потом она впала в беспамятство. Металась по подушкам, стонала от боли, ненадолго затихала после укола. Но глаза – все так же жили на сером лице, и все тот же в них был укор, молчаливое обвинение, и он не мог смотреть в эти глаза…
Он быстрым шагом прошел в прихожую, надел ботинки, сдернул с крючка куртку, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Машина смотрела на него выжидательно, но он не подошел к ней. Обогнул двор, вышел на тихую зеленую улочку. Город был напоен ароматами приближающегося лета, звуками, шорохами, детским смехом.
Почему ты не родила мне ребенка, Наташа? И он запрокидывал к небу лицо, и слезы стекали по щекам, покрытым уже морщинами. Почему ты не родила мне сына или дочь, которые могли бы быть сейчас взрослыми? Ведь я просил тебя, Наташа…
Голубое-голубое, чистое, покоем дышащее небо простиралось над его седеющей головой, успокаивало и отвечало на вопросы. Потому что ее мать ненавидела ее, Господи! Он припомнил все взгляды, которые теща бросала на нее, все ее разговоры о неудавшейся из-за ребенка личной жизни. Ты ни в чем не виновата, Наташа. Только в том, что не смогла сопротивляться. Ты смутно чувствовала несправедливость и винила меня… Ты всю жизнь была уверена, что дети – зло, а сама ты не годна ни на что, кроме мытья полов – только так тебя будут хвалить. Бедная, бедная… И я не смог помочь тебе. Да и смог ли бы кто-нибудь?
Ты прожила так всю жизнь – в страхе. Как это ужасно – так жить! И я прожил с тобой эти долгие годы, в той же клетке, что и ты.
Он шел быстро и начал уже задыхаться, но не сбавил шаг и не остановился. Вот двор с разломанной, обезображенной детской площадкой и разбитым асфальтом, вот хлопающая дверь подъезда в обрывках старых объявлений. Он поднялся по темной грязной лестнице и остановился перед дверью. Достал ключ и тихонько повернул его в замке.
И тут же споткнулся о брошенный детский башмачок. Из кухни выглянул лохматый парень лет шестнадцати.
- Здорово, дядя Коль… - и крепко пожал ему руку молодой мальчишеской рукой.
- Здорово, Серега.
- Дядь Коль…
- Спасибо, Серега, все в порядке. Мама дома?
- Мать! – гаркнул Серега вглубь квартиры.
Она вышла, растрепанная, полная, с усталыми глазами, под которыми залегли тени. Подошла, потерлась носом, прижалась к шее теплыми губами, постояла так.
- Бедный мой.
Он молча стоял в прихожей, ощущая тепло этого дома с разбросанными детскими вещами. Простучали по полу коленки. Серега поймал малыша и протянул ему, улыбаясь.
И, принимая на руки маленького теплого человечка, отбиваясь от рассказов Сереги «дядь Коль, ну блин…» и чувствуя ее молчаливое сочувствие, он понял, что за чувство поселилось в нем с самого утра.
- Не рви папе волосы…
- Дядь Коль, ну блин…
- Пошли ужинать, - сказал он.
И он, и Наташа были теперь свободны.
Спасибо тебе, Господи…
| Автор: Юлия Кондратьева |
|
Оставить комментарий
|
26 июня 2009, 8:00 43796 просмотров |
Единый профиль
МедиаФорт
Разделы библиотеки
Мода и красота
Психология
Магия и астрология
Специальные разделы:
Семья и здоровье
- Здоровье
- Интим
- Беременность, роды, воспитание детей
- Аэробика дома
- Фитнес
- Фитнес в офисе
- Диеты. Худеем вместе.
- Йога
- Каталог асан