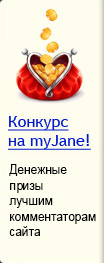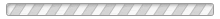Статьи » Психология
 Я всегда знала, что я – не родная дочь своих родителей, что они усыновили меня в глубоком детстве. Но это никак не влияло на мою жизнь. Может быть, если бы от меня это сначала скрывали, а потом вдруг кто-то сказал бы мне правду, я это могла бы воспринять как обман, как трагедию, как глупый семейный фарс. Наверное, всегда лучше знать истину, какой бы солёной она ни казалась.
Я всегда знала, что я – не родная дочь своих родителей, что они усыновили меня в глубоком детстве. Но это никак не влияло на мою жизнь. Может быть, если бы от меня это сначала скрывали, а потом вдруг кто-то сказал бы мне правду, я это могла бы воспринять как обман, как трагедию, как глупый семейный фарс. Наверное, всегда лучше знать истину, какой бы солёной она ни казалась.
Я смутно помнила детский дом: и само здание с огороженной территорией для прогулок, и спальню, и игровую комнату, и столовую, и даже детей и персонал. Хотя где-то в голове засело имя одной воспитательницы – Наташа. У меня не получается представить её лицо, но я хорошо помню её мягкие тёплые руки с выступающими натруженными синими венами. Пожалуй, это моё единственное яркое воспоминание о той поре: я сижу у Наташи на коленях и глажу её руки. Мне тепло и уютно, и даже мысль о том, что у меня нет мамы, не кажется страшной. А потом – будто обрыв киноплёнки, как у старого фильма, изображение исчезает, и свет гаснет. Через миг загорается снова, но идёт уже другой фильм – о моей новой жизни с приёмными родителями.
Когда люди знакомятся с усыновлённым ребёнком, они почему-то сразу начинают искать следы недоедания на его лице или шрамы от побоев на теле. Очевидно, стереотип мачехи из вечной сказки про Золушку слишком живуч. А я, зная, что моя мама мне не родная, никогда бы не назвала её мачехой, даже рассердившись на неё в каких-то своих детских капризах. Когда я немного подросла, я поняла, что являюсь центром своей семьи точно так же, как и мои подружки. Лучший кусок всегда был моим: вожделенная куриная ножка, красная роза на праздничном торте, последняя конфета в коробке.
Папа покупал мне необыкновенные игрушки, и мама лишь поднимала брови и шумно вздыхала, обнаружив на упаковке наклейку с ценой. А какие у меня были наряды! Мама отличалась изумительным вкусом, она умудрялась наряжать меня лучше всех девочек в группе детского сада, а потом и в классе. Она не только изобретала мои костюмы, но и придумывала им названия.
- Сегодня ты девочка с подсолнухами, как у Ван Гога, - приговаривала она, застёгивая блестящие пуговки на моём жёлто-бежевом платье с зелёной отделкой. – Красота! – резюмировала она, разведя руками в разные стороны отутюженные оборки на подоле. – Постарайся не очень испачкаться, хорошо?
- А если испачкаюсь?
- Значит, завтра наденем другое платье, вот и всё!
В саду я нечаянно обливала бедные подсолнухи супом и ждала маминого вечернего строгого приговора. Конечно, она ворчала и всё обещала найти папин ремень и начать драть меня по субботам после бани, но делала это не со злостью, а как бы по необходимости, как будто играла в какую-то особую игру, где угроза наказания была одной из её составляющих.
Наутро она наряжала меня в белое батистовое платье с вышивкой, подводила к большому зеркалу в коридоре и говорила:
- Ты как маленькая английская леди. И веди себя, пожалуйста, как настоящая леди: не плюйся в Веденеева и не ложись в песочнице на живот.
Я не понимала значения слова «леди», по своему звучанию оно казалось мне чем-то средним между «льдом» и «лебедем», и я собиралась в соответствии со своими представлениями играть в этом платье в Снежную королеву. Но жизнь в садике брала своё, и мои порывы быть Снежной королевой в белом платье не доживали и до середины первой утренней прогулки. Веденеев плевался, Попова зашвыривала мою куклу за высокий забор, а Серавин пинал ногами все мои кексы из песка. И после всех пинков и плевков белое платье совершенно теряло свой снежно-королевский вид.
Дома мама хмурилась и объявляла о моём новом имидже:
- Завтра ты наденешь бежевые хлопчатобумажные брюки и зелёную рубашку. Как раз для игры в песочнице. Будешь, как вьетнамский мальчик.
- Почему вьетнамский мальчик?
- Помнишь, мы смотрели хронику, как вьетнамцы собирают рис? На них были прямые брюки, широкие блузы навыпуск и соломенные шляпы конусом. Шляпы такой у меня нет, наденешь джинсовую панаму.
- Не хочу, как мальчик!
- Правильно, что не хочешь. Что же в этом хорошего – быть мальчиком? Но брюки с рубашкой наденешь, завтра обещают похолодание. Ну, не реви. Ты же не на самом деле будешь мальчиком, а только понарошку.
Мама с детства меня научила важным вещам. Не тем избитым догмам, которым учат в школе, а очень значимым открытиям для правильного понимания действительности. Повзрослев, я поняла, как же это здорово – изначально знать истину, а не пробиваться к ней через ворох собственных ошибок, разбивая нос и ломая ногти. Девочки лучше и умнее мальчиков – этот постулат я выучила ещё в садике, и ни разу у меня в жизни не возникло повода усомниться в этом. Мама, обучая меня на примере этого тезиса суровой правде жизни, ещё декламировала какие-то глупые стишонки, совсем не вяжущиеся с её взрослым респектабельным видом.
- Сегодня воскресенье, девочкам – печенье, а мальчишкам-дуракам - толстой палкой по бокам, - шептала мне она в коридоре, косясь на закрытую дверь в кухню, за которой папа курил у открытой форточки.
- А откуда ты это знаешь? – восхищалась я, пятилетняя девочка, широте и прогрессивности маминых взглядов.
- Ну, я ведь тоже ходила в детский сад, а потом в школу, поэтому я очень хорошо знаю жизнь.
- Мама, наверное, ты много училась! – восхищалась я.
- Да, много, - смеялась мама. – Только не тому, чему надо.
Наш содержательный разговор закруглялся на самом интересном месте, потому что из кухни выходил папа и вырывался запах сигарет.
- Девочки не курят табак, правда, мама?
- Нет, не курят.
- А почему не курят?
- Потому что они берегут свою красоту!
Я так и не научилась курить в школе. Если бы мама зудела о том, как это вредно для здоровья, я бы наверняка наперекор ей, по крайней мере, попробовала бы хоть разок затянуться. Но она просто сказала мне:
- Я не курю, потому что кожа будет жёлтая, морщины полезут вокруг глаз и зубы посыплются.
- А ещё говорят, что это вредно, - решила я однажды поддержать её.
- Да наплевать, что говорят. Жить вообще вредно, извини за банальность. То, что заболеешь раком лёгких, ещё не факт. А вот внешность точно испортишь.
Да, внешность всегда была основной маминой заботой. Хотя, объективно говоря, красавицей она не была. Но она была необыкновенной, не такой, как мамы моих подружек. Она умела выглядеть сногсшибательно. В садике я очень гордилась своей мамой, тогда я искренне считала, что моя мама самая красивая. Мама заглядывала в нашу группу и улыбалась, румяная от мороза и запыхавшаяся от быстрого подъёма по лестнице на третий этаж, и я хотела кричать от счастья, потому что эта прекрасная стройная женщина в песцовой шубке и есть моя мама.
А в школе я уже не просто захлёбывалась от волны восторга при виде мамы, а даже начинала немного стесняться себя перед всеми. Стесняться того, что у такой роскошной мамы такая обычная угловатая дочь. Какими взглядами провожали маму отцы моих одноклассников! Она летала на высоченных каблуках легко, будто на крыльях, и рысий палантин лежал на её плечах торжественно и величаво, как трофейные шкуры на спинах римских легионеров-победителей.
Мама умела поставить на место любого учителя. И в старших классах ко мне уже не цеплялись ни мерзкая биологичка, ни озабоченный физрук. Неопытные педагоги поначалу пытались жаловаться ей на меня, но она, ухватив их своими цепкими коготками, пару раз так сумела отстоять мои права и указать на их обязанности, что впредь её только вежливо обходили, приседая и кланяясь.
Она выработала для подобных бесед свой особый тон: говорила жеманно и чуть надменно, гнусавя и немного картавя, как Вертинский в своём романсе «Мадам, уже падают листья», растягивая слова и делая непонятные паузы. Собеседник терялся и исчезал, а мама долго не выходила из роли, требовала подать жареных каштанов и отвезти её этой зимой на Ривьеру. Потом стирала с губ яркую помаду, припасённую специально для подобных школьных антреприз, и смеялась над сбежавшими от неё учителями.
В детстве мама не рассказывала мне сказок про репку или Красную шапочку. Она читала Пушкина, но не «Золотую рыбку» или «Мёртвую царевну», а монологи из «Скупого рыцаря» или «Анджело», и читала не по книжке, а наизусть. Она знала море стихов и, будучи в хорошем настроении, декламировала мне Цветаеву и Мандельштама, Шекспира и Гарсиа Лорку.
У неё был особенный взгляд на искусство, и она не стыдилась своего неприятия общепризнанных шедевров. Она издевалась над школьной программой по литературе и грозилась записать меня на приём к психиатру Леокадии Вениаминовне, если ещё хоть раз увидит у меня в руках книгу Достоевского. Она насмехалась над моими походами на выставку работ знаменитого Глазунова и называла их «обязаловкой для пролетариев и государственных чиновников». Потом подсовывала мне альбомы импрессионистов, взахлёб рассказывая о какой-то их необыкновенной технике мазка «импасто», одновременно сетуя, что не сумела привить ребёнку настоящий вкус.
Больше всего на свете я мечтала стать такой, как моя мама. Мы писали сочинения в школе о знаменитых женщинах-политиках и борцах за мир, мои подружки, восхваляя по необходимости Маргарет Тэтчер и Индиру Ганди, в душе восхищались Аллой Пугачёвой и Джулией Робертс, и только я имела образцом для подражания всего лишь маму – самую лучшую женщину на свете.
Даже думая о Божьей Матери, я представляла её такой, как моя мама: то же строгое умное лицо, те же глубокие ясные глаза и тонкие породистые пальцы. А однажды в Никольском соборе Санкт-Петербурга я увидела икону с ликом Богородицы, удивительно похожую на мамин портрет, и окончательно утвердилась в своих чувствах.
Я никогда не вспоминала о женщине, родившей меня на свет. Мне с избытком хватало моей мамы. Она занимала собой всю мою жизнь, мои мысли, мечты, воспоминания, планы и фантазии. Каждый день – вчерашний, сегодняшний, завтрашний – был до краёв наполнен ею и связан только с ней.
Удивительно, но я долгое время не знала, сколько маме лет на самом деле. Мне она всегда казалась молодой. Я помню, как накануне поступления в школу спросила её:
- Мама, а сколько тебе лет?
- Двадцать семь! – без запинки отрапортовала она.
Эти же «двадцать семь» были и в первом, и в третьем, и в пятом классах, и только ближе к окончанию школы я сообразила, что маме уже хорошо за сорок.
- Скажи, а почему ты мне в детстве никогда не говорила, сколько тебе лет на самом деле? – в десятом классе я почувствовала, что имею право задать маме такой вопрос.
- Чтобы ребёнка зря не расстраивать! Зачем бы тебе была нужна старая калоша-мать? А так у тебя всегда была юная красотка! – смеялась мама, крутясь перед зеркалом и втягивая живот, пытаясь застегнуть молнию на джинсах. – Женщине столько лет, сколько она сама себе даёт. Вот я, например, твоему отцу почти тридцать лет рассказываю, какая я молодая и красивая, и он в это верит.
- Но ведь ты и вправду всегда была и молодой, и красивой!
- Да, была. Потому что никогда не ленилась вам лишний раз об этом напоминать!
Хорошо было иметь маму, которая научила меня всем жизненным правилам и истинам. В великом знании не печаль, а сила и спасение.
Девочки лучше мальчиков.
На свете нет справедливости.
Мир создан мужчинами и для мужчин.
Человеку столько лет, сколько он сам хочет.
И нет ничего страшного в том, что я не родная дочка.
И раз я знаю уже все эти тайны, мне будет легко в жизни, и я избегу ненужных ошибок и разочарований. Но жизнь подготовила для меня сюрприз.
Я даже и не помню сейчас, зачем я полезла в эту папку с документами: то ли мне потребовалось свидетельство о регистрации права собственности на гараж, то ли я искала старый страховой полис. Я заметила документ, который раньше никогда не видела. Красивые прописные буквы, выведенные на голубой гербовой бумаге, сложились в слова, от которых вдруг защипало в носу, потом слова рассыпались, и нарядные буквы закружились перед глазами, как рой вечерней мошкары.
«Свидетельство об удочерении».
Я вцепилась в бумагу, пытаясь читать дальше и, наверное, прочла её раз двадцать, прежде чем до меня дошёл смысл прочитанного. Так, спокойно.
Головановская Светлана Алексеевна, она родилась со мной в один день и даже в один год, правда, в посёлке Усть-Вознесенье. Её родители – Фроловы Екатерина Дмитриевна и Андрей Александрович. Так это же мои родители… По решению суда ребёнку присвоено имя Татьяна, отчество Андреевна, фамилия Фролова. Так что же, Головановская Светлана – это что ли я? Меня так звали? Света Головановская?
Да, я всегда знала, что я не родной, а усыновлённый ребёнок, что Фроловы – мои приёмные родители, но почему-то меня так обескуражила эта бумажка. Мне вдруг показалось важным узнать как можно больше о своих биологических родителях, как будто в этой информации о них заключался какой-то ключ к разгадке моей будущей судьбы. Надо дождаться маминого прихода и всё у неё расспросить. Почему она никогда не говорила, что я родилась в посёлке и меня звали Светой? Хотя я и не спрашивала. Света… Так непривычно. Мама всегда звала меня Таткой.
Продолжение следует...
Дочки-матери. Часть 1

Я смутно помнила детский дом: и само здание с огороженной территорией для прогулок, и спальню, и игровую комнату, и столовую, и даже детей и персонал. Хотя где-то в голове засело имя одной воспитательницы – Наташа. У меня не получается представить её лицо, но я хорошо помню её мягкие тёплые руки с выступающими натруженными синими венами. Пожалуй, это моё единственное яркое воспоминание о той поре: я сижу у Наташи на коленях и глажу её руки. Мне тепло и уютно, и даже мысль о том, что у меня нет мамы, не кажется страшной. А потом – будто обрыв киноплёнки, как у старого фильма, изображение исчезает, и свет гаснет. Через миг загорается снова, но идёт уже другой фильм – о моей новой жизни с приёмными родителями.
Когда люди знакомятся с усыновлённым ребёнком, они почему-то сразу начинают искать следы недоедания на его лице или шрамы от побоев на теле. Очевидно, стереотип мачехи из вечной сказки про Золушку слишком живуч. А я, зная, что моя мама мне не родная, никогда бы не назвала её мачехой, даже рассердившись на неё в каких-то своих детских капризах. Когда я немного подросла, я поняла, что являюсь центром своей семьи точно так же, как и мои подружки. Лучший кусок всегда был моим: вожделенная куриная ножка, красная роза на праздничном торте, последняя конфета в коробке.
Папа покупал мне необыкновенные игрушки, и мама лишь поднимала брови и шумно вздыхала, обнаружив на упаковке наклейку с ценой. А какие у меня были наряды! Мама отличалась изумительным вкусом, она умудрялась наряжать меня лучше всех девочек в группе детского сада, а потом и в классе. Она не только изобретала мои костюмы, но и придумывала им названия.
- Сегодня ты девочка с подсолнухами, как у Ван Гога, - приговаривала она, застёгивая блестящие пуговки на моём жёлто-бежевом платье с зелёной отделкой. – Красота! – резюмировала она, разведя руками в разные стороны отутюженные оборки на подоле. – Постарайся не очень испачкаться, хорошо?
- А если испачкаюсь?
- Значит, завтра наденем другое платье, вот и всё!
В саду я нечаянно обливала бедные подсолнухи супом и ждала маминого вечернего строгого приговора. Конечно, она ворчала и всё обещала найти папин ремень и начать драть меня по субботам после бани, но делала это не со злостью, а как бы по необходимости, как будто играла в какую-то особую игру, где угроза наказания была одной из её составляющих.
Наутро она наряжала меня в белое батистовое платье с вышивкой, подводила к большому зеркалу в коридоре и говорила:
- Ты как маленькая английская леди. И веди себя, пожалуйста, как настоящая леди: не плюйся в Веденеева и не ложись в песочнице на живот.
Я не понимала значения слова «леди», по своему звучанию оно казалось мне чем-то средним между «льдом» и «лебедем», и я собиралась в соответствии со своими представлениями играть в этом платье в Снежную королеву. Но жизнь в садике брала своё, и мои порывы быть Снежной королевой в белом платье не доживали и до середины первой утренней прогулки. Веденеев плевался, Попова зашвыривала мою куклу за высокий забор, а Серавин пинал ногами все мои кексы из песка. И после всех пинков и плевков белое платье совершенно теряло свой снежно-королевский вид.
Дома мама хмурилась и объявляла о моём новом имидже:
- Завтра ты наденешь бежевые хлопчатобумажные брюки и зелёную рубашку. Как раз для игры в песочнице. Будешь, как вьетнамский мальчик.
- Почему вьетнамский мальчик?
- Помнишь, мы смотрели хронику, как вьетнамцы собирают рис? На них были прямые брюки, широкие блузы навыпуск и соломенные шляпы конусом. Шляпы такой у меня нет, наденешь джинсовую панаму.
- Не хочу, как мальчик!
- Правильно, что не хочешь. Что же в этом хорошего – быть мальчиком? Но брюки с рубашкой наденешь, завтра обещают похолодание. Ну, не реви. Ты же не на самом деле будешь мальчиком, а только понарошку.
Мама с детства меня научила важным вещам. Не тем избитым догмам, которым учат в школе, а очень значимым открытиям для правильного понимания действительности. Повзрослев, я поняла, как же это здорово – изначально знать истину, а не пробиваться к ней через ворох собственных ошибок, разбивая нос и ломая ногти. Девочки лучше и умнее мальчиков – этот постулат я выучила ещё в садике, и ни разу у меня в жизни не возникло повода усомниться в этом. Мама, обучая меня на примере этого тезиса суровой правде жизни, ещё декламировала какие-то глупые стишонки, совсем не вяжущиеся с её взрослым респектабельным видом.
- Сегодня воскресенье, девочкам – печенье, а мальчишкам-дуракам - толстой палкой по бокам, - шептала мне она в коридоре, косясь на закрытую дверь в кухню, за которой папа курил у открытой форточки.
- А откуда ты это знаешь? – восхищалась я, пятилетняя девочка, широте и прогрессивности маминых взглядов.
- Ну, я ведь тоже ходила в детский сад, а потом в школу, поэтому я очень хорошо знаю жизнь.
- Мама, наверное, ты много училась! – восхищалась я.
- Да, много, - смеялась мама. – Только не тому, чему надо.
Наш содержательный разговор закруглялся на самом интересном месте, потому что из кухни выходил папа и вырывался запах сигарет.
- Девочки не курят табак, правда, мама?
- Нет, не курят.
- А почему не курят?
- Потому что они берегут свою красоту!
Я так и не научилась курить в школе. Если бы мама зудела о том, как это вредно для здоровья, я бы наверняка наперекор ей, по крайней мере, попробовала бы хоть разок затянуться. Но она просто сказала мне:
- Я не курю, потому что кожа будет жёлтая, морщины полезут вокруг глаз и зубы посыплются.
- А ещё говорят, что это вредно, - решила я однажды поддержать её.
- Да наплевать, что говорят. Жить вообще вредно, извини за банальность. То, что заболеешь раком лёгких, ещё не факт. А вот внешность точно испортишь.
Да, внешность всегда была основной маминой заботой. Хотя, объективно говоря, красавицей она не была. Но она была необыкновенной, не такой, как мамы моих подружек. Она умела выглядеть сногсшибательно. В садике я очень гордилась своей мамой, тогда я искренне считала, что моя мама самая красивая. Мама заглядывала в нашу группу и улыбалась, румяная от мороза и запыхавшаяся от быстрого подъёма по лестнице на третий этаж, и я хотела кричать от счастья, потому что эта прекрасная стройная женщина в песцовой шубке и есть моя мама.
А в школе я уже не просто захлёбывалась от волны восторга при виде мамы, а даже начинала немного стесняться себя перед всеми. Стесняться того, что у такой роскошной мамы такая обычная угловатая дочь. Какими взглядами провожали маму отцы моих одноклассников! Она летала на высоченных каблуках легко, будто на крыльях, и рысий палантин лежал на её плечах торжественно и величаво, как трофейные шкуры на спинах римских легионеров-победителей.
Мама умела поставить на место любого учителя. И в старших классах ко мне уже не цеплялись ни мерзкая биологичка, ни озабоченный физрук. Неопытные педагоги поначалу пытались жаловаться ей на меня, но она, ухватив их своими цепкими коготками, пару раз так сумела отстоять мои права и указать на их обязанности, что впредь её только вежливо обходили, приседая и кланяясь.
Она выработала для подобных бесед свой особый тон: говорила жеманно и чуть надменно, гнусавя и немного картавя, как Вертинский в своём романсе «Мадам, уже падают листья», растягивая слова и делая непонятные паузы. Собеседник терялся и исчезал, а мама долго не выходила из роли, требовала подать жареных каштанов и отвезти её этой зимой на Ривьеру. Потом стирала с губ яркую помаду, припасённую специально для подобных школьных антреприз, и смеялась над сбежавшими от неё учителями.
В детстве мама не рассказывала мне сказок про репку или Красную шапочку. Она читала Пушкина, но не «Золотую рыбку» или «Мёртвую царевну», а монологи из «Скупого рыцаря» или «Анджело», и читала не по книжке, а наизусть. Она знала море стихов и, будучи в хорошем настроении, декламировала мне Цветаеву и Мандельштама, Шекспира и Гарсиа Лорку.
У неё был особенный взгляд на искусство, и она не стыдилась своего неприятия общепризнанных шедевров. Она издевалась над школьной программой по литературе и грозилась записать меня на приём к психиатру Леокадии Вениаминовне, если ещё хоть раз увидит у меня в руках книгу Достоевского. Она насмехалась над моими походами на выставку работ знаменитого Глазунова и называла их «обязаловкой для пролетариев и государственных чиновников». Потом подсовывала мне альбомы импрессионистов, взахлёб рассказывая о какой-то их необыкновенной технике мазка «импасто», одновременно сетуя, что не сумела привить ребёнку настоящий вкус.
Больше всего на свете я мечтала стать такой, как моя мама. Мы писали сочинения в школе о знаменитых женщинах-политиках и борцах за мир, мои подружки, восхваляя по необходимости Маргарет Тэтчер и Индиру Ганди, в душе восхищались Аллой Пугачёвой и Джулией Робертс, и только я имела образцом для подражания всего лишь маму – самую лучшую женщину на свете.
Даже думая о Божьей Матери, я представляла её такой, как моя мама: то же строгое умное лицо, те же глубокие ясные глаза и тонкие породистые пальцы. А однажды в Никольском соборе Санкт-Петербурга я увидела икону с ликом Богородицы, удивительно похожую на мамин портрет, и окончательно утвердилась в своих чувствах.
Я никогда не вспоминала о женщине, родившей меня на свет. Мне с избытком хватало моей мамы. Она занимала собой всю мою жизнь, мои мысли, мечты, воспоминания, планы и фантазии. Каждый день – вчерашний, сегодняшний, завтрашний – был до краёв наполнен ею и связан только с ней.
Удивительно, но я долгое время не знала, сколько маме лет на самом деле. Мне она всегда казалась молодой. Я помню, как накануне поступления в школу спросила её:
- Мама, а сколько тебе лет?
- Двадцать семь! – без запинки отрапортовала она.
Эти же «двадцать семь» были и в первом, и в третьем, и в пятом классах, и только ближе к окончанию школы я сообразила, что маме уже хорошо за сорок.
- Скажи, а почему ты мне в детстве никогда не говорила, сколько тебе лет на самом деле? – в десятом классе я почувствовала, что имею право задать маме такой вопрос.
- Чтобы ребёнка зря не расстраивать! Зачем бы тебе была нужна старая калоша-мать? А так у тебя всегда была юная красотка! – смеялась мама, крутясь перед зеркалом и втягивая живот, пытаясь застегнуть молнию на джинсах. – Женщине столько лет, сколько она сама себе даёт. Вот я, например, твоему отцу почти тридцать лет рассказываю, какая я молодая и красивая, и он в это верит.
- Но ведь ты и вправду всегда была и молодой, и красивой!
- Да, была. Потому что никогда не ленилась вам лишний раз об этом напоминать!
Хорошо было иметь маму, которая научила меня всем жизненным правилам и истинам. В великом знании не печаль, а сила и спасение.
Девочки лучше мальчиков.
На свете нет справедливости.
Мир создан мужчинами и для мужчин.
Человеку столько лет, сколько он сам хочет.
И нет ничего страшного в том, что я не родная дочка.
И раз я знаю уже все эти тайны, мне будет легко в жизни, и я избегу ненужных ошибок и разочарований. Но жизнь подготовила для меня сюрприз.
Я даже и не помню сейчас, зачем я полезла в эту папку с документами: то ли мне потребовалось свидетельство о регистрации права собственности на гараж, то ли я искала старый страховой полис. Я заметила документ, который раньше никогда не видела. Красивые прописные буквы, выведенные на голубой гербовой бумаге, сложились в слова, от которых вдруг защипало в носу, потом слова рассыпались, и нарядные буквы закружились перед глазами, как рой вечерней мошкары.
«Свидетельство об удочерении».
Я вцепилась в бумагу, пытаясь читать дальше и, наверное, прочла её раз двадцать, прежде чем до меня дошёл смысл прочитанного. Так, спокойно.
Головановская Светлана Алексеевна, она родилась со мной в один день и даже в один год, правда, в посёлке Усть-Вознесенье. Её родители – Фроловы Екатерина Дмитриевна и Андрей Александрович. Так это же мои родители… По решению суда ребёнку присвоено имя Татьяна, отчество Андреевна, фамилия Фролова. Так что же, Головановская Светлана – это что ли я? Меня так звали? Света Головановская?
Да, я всегда знала, что я не родной, а усыновлённый ребёнок, что Фроловы – мои приёмные родители, но почему-то меня так обескуражила эта бумажка. Мне вдруг показалось важным узнать как можно больше о своих биологических родителях, как будто в этой информации о них заключался какой-то ключ к разгадке моей будущей судьбы. Надо дождаться маминого прихода и всё у неё расспросить. Почему она никогда не говорила, что я родилась в посёлке и меня звали Светой? Хотя я и не спрашивала. Света… Так непривычно. Мама всегда звала меня Таткой.
Продолжение следует...
| Автор: Елена Белова |
|
Оставить комментарий
|
5 декабря 2008, 8:00 7401 просмотр |
Единый профиль
МедиаФорт
Разделы библиотеки
Мода и красота
Психология
Магия и астрология
Специальные разделы:
Семья и здоровье
- Здоровье
- Интим
- Беременность, роды, воспитание детей
- Аэробика дома
- Фитнес
- Фитнес в офисе
- Диеты. Худеем вместе.
- Йога
- Каталог асан